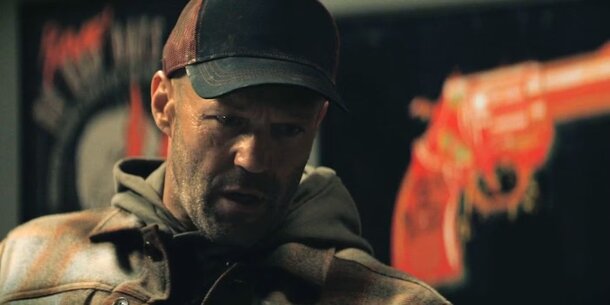Фильмы ужасов, не построенные на однообразных и предсказуемых схемах, производятся уже довольно давно (Р. Полански, С. Кубрик, Н. Роуг и др.) и открыто дают понять, что хоррор ― это далеко не банальный и предсказуемый низкий жанр, а фильмы ужасов могут содержать в себе нечто большее, чем просто попытку пощекотать нервы зрителя. Приставка «пост-» отсылает, увы, в первую очередь, к понятию «постмодернизм». А значит, оно заведомо содержит в себе утвержденные коннотации: деконструкцию, различные формы переосмыслений условностей и канонов. В horror movie ― это, первую очередь, уход от жанровых клише, избавление от всяких рамок, которые жанр сам себе создал еще со времен первого в мире трехминутного «Замка Дьявола» Жоржа Мельеса в 1896 году. Классическим обязательством для всякого жанра издавна считалось соблюдение так называемого «договора со зрителем», когда надпись «комедия» подразумевает смех в зале, а «триллер» ― разгадывание загадок вкупе с нарастающим хичкоковским саспенсом. Получите, распишитесь. Негласная договоренность существовала давно, однако в эпоху «пост» условие стремительно растворяется в воздухе, словно его никогда и не было. Жанр как таковой в целом лишается своих конвенций, его все сложнее захватить словом, объяснить, что это такое и с чем его употреблять. Хоррор ― не исключение. Если раньше, когда Носферату протягивал свои когтистые лапы, зритель должен был бояться ― и он боялся, то теперь, когда на постере будет изображен вампир, это не обязательно напугает, а, возможно, больше рассмешит или озадачит, а то и вовсе заставит выйти из зала с требованием вернуть деньги за неиспытанные эмоции. Зритель до сих пор пользуется старой схемой «договора», а потому так часто проваливаются в прокате современные как бы жанровые картины. Фильмы ужасов, как и все, имеют свои взлеты и падения. Прекрасные двадцатые с Белой Лугоши и Лоном Чейни сменило время Хичкока с изобретением саспенса как такового, а также «джалло» и итальянского хоррора в целом; позже наступила эпоха ремейков старых шедевров, перетекающая в эпоху слэшеров в начале 2000-х, а в наши дни возник очередной новый виток в развитии жанра, общие характеристики которого можно проследить вспышками по всему миру.

Постхоррор, в первую очередь, нацелен, так сказать, «на злобу дня». Он стремится поднять на поверхность самые актуальные и сложные проблемы современности, с переменным успехом гримируя мораль под «непонятные страшилки», расшифровка которых пока оказывается подвластна далеко не всем в силу неготовности отказаться от устоявшихся правил. Современный хоррор очень часто лишен скримеров ― тех самых долгожданных сцен с реками крови, разбросанным всюду сырым мясом, а также с прочими визуально и аудиально неприятными элементами, которые издавна рождали то ощущение дискомфорта у смотрящего, на которое он и рассчитывал, покупая билет. В наши дни людей призваны пугать максимально приближенные элементы быта, как в свое время вызвали ужас литературные эксперименты Кафки, опирающиеся на подчеркивание таинственной силы, которая как бы таится в темных и грязных закоулках быта, придавая неожиданный «демонизм» самым привычным местам. Одним из первых и наиболее очевидных примеров явления постхоррора часто называют «Бабадук» (2014) Джонатана Кента, несмотря на то, что существуют и иные мнения о более раннем появлении характерных фильмов. «Бабадук» ― история о женщине, потерявшей мужа в один день с рождением собственного сына. Возникший монстр в фильме отнюдь не самобытен; он не появляется откуда-то извне, имея собственную историю за плечами. Монстр здесь ― это все та же главная героиня, которая пытается совладать с частью себя, ненавидящей собственного сына, потому что из-за него погиб ее муж. Она год за годом пытается удержать в себе всю горечь, злость и ненависть к ребенку, унесшему жизнь самого дорогого и близкого ей человека, и это не могло не вылиться в катастрофу. И визуально «катастрофа» воплотилась в бабадука ― персонажа детской страшилки. Недаром никто больше ни разу не видел это существо, и лишь мальчик интуитивно понимал, что бабадук опасен в первую очередь для матери, но не для него, и защищать от воплощенного в экспрессионистскую тень комка зла нужно ее, а не его. «Бабадук» ― это в большей степени фильм о способностях человека переживать критические события, справляться с ними, подчинять их себе и жить дальше. Именно так и поступила мать: подчинила естественное зло внутри себя и научилась любить сына безотносительно к гибели мужа. Фильм лишен неестественности ― «монстра, пришедшего извне», чего-то, что приходит из ниоткуда и внезапно становится препятствием к мирному существованию. Классический вид монстра уже не пугает современного зрителя: он приспособился абстрагироваться от происходящего на экране, понимая, что все, что там ― это не про него, а про кого-то внутри рассказываемой истории. «Бабадук» же ломает издавна сложившееся правило и помещает смотрящего в его собственный монотонный быт, где монстром может стать он сам или его сосед. И для этого вовсе необязательно нашествие инопланетных существ, ведьм или маленьких девочек из колодца. Бытовая трагедия ― вот ужас современности. И это правда пугает.

Николас Песке уже своим первым фильмом «Глаза моей матери» (2016) вскрыл самую суть нынешнего хоррора, рассказав историю девушки, неспособной к социализации из-за серьезной травмы детства и тотальной изоляции от внешнего мира. Такое описание звучит как классическая драма, но визуальное воплощение с первых сцен прямо сообщает зрителю о том, что перед ним детище post-horror. В фильме переплетаются одновременно две актуальные проблемы человечества: тотальное одиночество и религиозный кризис. Груз непонимания и бессилия возникает с той поры, когда рождается хотя бы маленькое неверие в то, что кто-то наверху все знает и заботится о тебе. Со временем маленькое неверие кормится новостями и мнениями, становится крепче и сильнее, вырастая в тотальное неверие в возможность существования кого-то свыше ― оберегающего и всесильного. Это порождает ощущение бессмысленности собственного существования и совершения привычных обрядов. Если в прежние времена христианские мученики погибали за свое «свидетельство», то они делали это добровольно, однако же в наши дни кинематографический образ «мученика» претерпевает большие изменения в силу неукротимо меняющихся культурных настроений. Сейчас здесь уже нет веры в то, что мучения помогут заслужить место среди благочестивых душ, равно как здесь нет места доверию науке, колдовству, мистике или философии. Этот современный образ мученика теряет абсолютно все ниточки, которые могли бы поддерживать сознание, каким бы то ни было образом оправдывая все те ужасные вещи, которые с ним происходят, и одновременно с этим сама жизнь становится существованием, не имеющим смысла. Но и это еще не все. Мало того, что сам терпящий муки оказывается лишен всякого оправдания для себя самого, но и тот, кто совершает над ним жестокие действия, не имеет глобальной мотивации для них. Все его механические движения, будь то отрезание языка, снятие кожного покрова или вытаскивание глазных яблок, заведомо сюжетно оправданы: в «Глазах моей матери», например, это видимый психоз главной героини, который выливается в желание бесконечно о ком-то заботиться, и, желательно, чтобы этот «кто-то» никогда не смог покинуть ее, как это сделала мать и отец (единственные люди, с которыми несчастная вообще имела контакт, проживая в доме на отшибе). В своей «заботе» она доходит до крайностей: так или иначе завлекает героев, в буквальном смысле отрезает для них все пути к побегу (лишает их ног, рук, глаз, языка), а после со всей искренностью ежедневно ухаживает за ними. Действия героини вовсе не имеют оправдывающей ее мотивации, сообщающей, что она действует на благо человечества или же из-за необходимости очищения души от греховных начал для полного единения с божественным. Если «Бабадук» ― это пример классического постхоррора, то «Глаза моей матери» ― это, скорее, один из его детей-поджанров. Определение «пыточного хоррора» или torture porn («пыточное порно») было придумано и введено в критику Дэвидом Эдельштейном еще в 2005 году после выхода первой части «Хостел» Элая Рота. Несложно догадаться, что в рамки данного поджанра оказались заключены элементы детальной демонстрации насилия, пыток и садизма с акцентом на длительность страданий жертв. Несмотря на то, что ряд фильмов обзавелся термином лишь в начале двухтысячных, задолго до него существовали подобные жестокие ленты, повествующие, например, о праведных деяниях инквизиции. Так, еще в далеком 1922 году в Швеции появились полудокументальные «Ведьмы» Беньямина Кристенсена с детальным разбором пыточных аппаратов Средневековья, а еще позже, в Японии, была создана двухсерийная лента с целым набором красочных и разнообразных пыток для мучеников.

К моменту появления термина фильмы, впоследствии вписанные в его рамки, уже были лишены всякого религиозного окраса и любых возможных подтекстов. Иными словами, перед зрителем было чистое развлекательное кино, рожденное утолить потребность смотрящего в жестоком зрелище, а не изучать кино через теоретическую, философскую или иные призмы. И надо сказать, что на тот момент это было достаточно прибыльное направление: «Пила», «Хостел», «Туристас», «Волчья яма» и еще целых ряд подобных фильмов-шоу стабильно собирал полные кинозалы страждущих до тех пор, пока «torture porn» не стал потихоньку в этом дублировании изживать себя. И тогда, разумеется, пришло время что-то менять. Так элементы «пыточного порно» ловко заняли свои места в современном хорроре с приставкой «пост»: его садистские и порой чрезмерно жестокие сцены пыток удачно вплетаются в злободневные и многозначительные картины Паскаля Ложье с его «Мученицами» или Николаса Песке, у которого за плечами уже два фильма со сценами увечий. Отличие канонизированного христианского мученика, который с радостью принимал блаженства мучений, от нынешнего, совершенно не благородного и не добровольного киномученика, страдающего и умирающего из-за обывательского утоления земного желания «не быть одному» («Глаза моей матери») или «дотронуться до порога смерти через страдания другого» («Мученицы»), отчасти объясняет, почему сейчас его кинематографический образ так «режет глаз», но в то же время не позволяет не смотреть на него ― нынешний мученик как никогда похож на нас самих, отчаявшихся и потерянных, и смириться с этим осознанием порой не так-то просто.