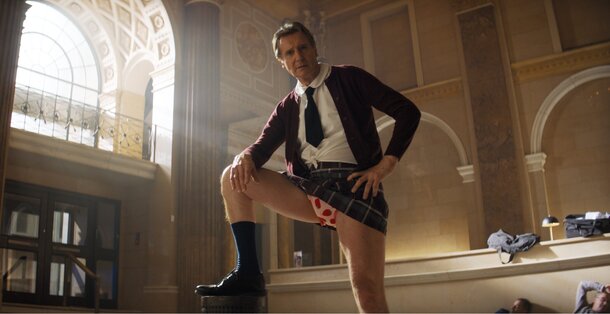Церемонию вручения премии «Оскар» показывают по ABC с 1976 года. В 2003 году представители канала впервые (и почти в шутку) провели социологический опрос среди людей, которые посмотрели церемонию, и немного опешили от результатов. Группам из случайно выбранных 20 человек задавали вопрос — кто из вас посмотрел все пять фильмов из шортлиста? Ответ: никто. А кто посмотрел четыре из пяти? Ответ: никто. В каждой группе через несколько минут выяснилось, что большинство опрашиваемых не видели даже одной картины. «Есть шанс, что все эти люди посмотрят все эти картины позднее, например, по кабельному, — признавался журналисту New York Times исполнительный директор киноакадемии Брюс Дэвис. — Но вообще это немного пугает; оказывается, зрителям не нужны фильмы, они просто хотят поглазеть на звёзд».

Выбор даты церемонии — это всегда почти хогвартская нумерология, где в расчёт идут сотни факторов, от расписания десятков спортивных игр до прогнозов синоптиков о количестве осадков в южной Калифорнии. Каждое колебание рейтинга вызывает беспокойство у всей индустрии и отчаянный поиск новых популистских мер, чтобы вернуть зрителя к телевизору. Когда на рубеже веков количество зрителей стремительно падало три года подряд, Академия решилась на отчаянный ход — она перенесла церемонию с понедельника на воскресенье.
Когда церемония в 2018 году снова вошла в пике, академики были готовы выложить последний козырь — ввести номинацию за «самый популярный фильм». Поднялся шум, идею пришлось отложить в долгий ящик.

И здесь мы подходим к главной проблеме: у каждого участника церемонии (будь то продюсер, академик или простой зритель) свои интересы, своя жизненная «правда», ради которой он готов с лёгкостью пожертвовать интересами своего временного союзника. Почему церемония проходила во вторник или понедельник, если зрителям, каналам, академикам и даже простым автолюбителям (о пробках во время церемонии в Лос-Анджелесе ходят настоящие легенды) удобнее в воскресенье? Потому что киностудии тряслись над сборами за каждый уик-энд и не хотели, чтобы зрители хоть раз предпочли походу в кино вечер у телевизора.
У каждого участника церемонии своя правда. Первая правда — академическая. Академики (а это обычные кинематографисты) искренне радеют за кино и его светлое будущее, им практически плевать на деньги (особенно чужие), но они не лишены амбиций и готовы вестись на любую лесть в свой адрес. Телеканалу нужны, прежде всего, рейтинги. Мейджорам — своевременная реклама для своих коммерческих джаггернаутов и респект. Независимым студиям — место у кормушки, которая всегда оккупирована мейджорами. Попытки изменить правила вредят всем. Когда академики пролоббировали перенос церемонии с марта на февраль, чтобы не выглядеть слоупоками перед «глобусами» и BAFTA, независимые взвыли. Ведь теперь у самих же академиков будет меньше времени на отсмотр номинантов, а всем известно, что при выборе между фильмом студии-мейджора и фильмом инди-студии люди из Академии всегда выбирают первых.

Балансу этих факторов посвящены десятки исследований, использующие все передовые достижения экономики, психологии и бихевиористики. Даже «модель вероятности сознательной обработки информации» (ELM), созданную в 1980 году Ричардом Петти. Но есть фактор, о котором регулярно забывает большинство специалистов.
Мир за последние пять-десять лет радикально изменился. А вслед за ним — и киноиндустрия.
Очень сильно мутировали студии-мейджоры, легендарная «большая шестёрка» из золотого века классического Голливуда - Universal, Paramount, Fox, Warner, Columbia и Disney. Последний поглотил студию Fox и телесеть ABC, по которой, собственно, и показывают оскаровскую церемонию. Самый старый голливудский мейджор Universal стал частью монструозного конгломерата NBCUniversal. Погрязли в войнах и поисках нового пути Paramount и Warner. На фоне этих тектонических сдвигов ушло (иногда совсем) целое поколение колоритных студийных функционеров и ярких продюсеров.
Ещё более глобальные изменения произошли в мире независимых студий. Инди-короли «оскаровских дорожек» недавнего прошлого братья Вайнштейн так и не смогли адаптироваться в новом десятилетии. За последние годы у них было всего три серьезных хита: «Кэрол» (шесть номинаций), «Омерзительная восьмёрка» (три номинации, одна победа), «Лев» (шесть номинаций). Сначала в 2016 году студия Disney избавилась по дешёвке от всей библиотеки Miramax, еще через год-полтора посыпалось с молотка и наследие Weinstein Co.
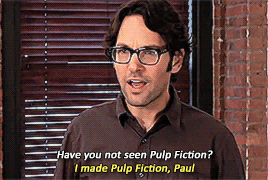
В то же время, примерно в 2012 году, в топы начало пробиваться несколько новых и сильных игроков. Например, производственная компания Меган Эллисон Annapurna Pictures. К 2018 году Annapurna даже отказалась от дистрибьюционных контрактов с мейджорами и начала прокатывать свои фильмы сама. Вот их персональный greatest hits: «Мастер» (три номинации, прокатывает Weinstein), «Цель номер один» (пять номинаций, прокатывает Columbia), «Она» (пять номинаций, одна победа, прокатывает Warner), «Афёра по-американски» (десять номинаций, прокатывает Columbia), «Джой» (одна номинация, прокатывает Fox), «Призрачная нить» (пять номинаций, одна победа, прокатывает Universal), «Власть» (шесть номинаций, прокатывают сами).
Накопилось за несколько лет 25 номинаций и 6 побед даже у главных неформатчиков нашего времени — компании A24, которая ассоциируется у всех исключительно со странными работами типа «Ведьма», «Реинкарнация», «Под Силвер-Лейк». Тем не менее, им принадлежат: «Комната» (четыре номинации, одна победа) «Леди Бёрд» (пять номинаций, одна победа), «Горе-творец» (одна номинация), «Лунный свет» (восемь номинаций, две победы).

Надо понимать, что новому игроку очень сложно запрыгнуть на ежегодный «оскаровский» товарняк. Победы Annapurna, A24 или Plan B — воистину титаническая работа со стороны маркетологов и лоббистов, ведь есть много топовых команд, которым по сей день редко удаётся выгрызть даже техническую номинацию из третьего ряда. Например, Bold Films («Драйв», «Неоновый демон», «Стрингер», «Одержимость»).
А ведь есть еще и новая бабайка Netflix, про которую либо хорошо, либо ничего.

Все эти бойцы невидимого фронта, готовые удавиться за пару миллионов с пропущенного из-за церемонии уик-энда, прекрасно помнят, что месяц между оглашением номинаций и награждением победителей — самая жаркая пора в году. «Исторически сложилось, что номинации оказывают куда более серьёзное влияние на прокатную судьбу фильма, чем сама победа», — признал однажды президент Focus Features Джеймс Шеймус. Ещё лет тридцать назад эта жаркая пора продолжалась не месяц, а почти три, но академики начали постепенно уставать от бесконечного хайпа; уставать и закручивать вентиль. Когда вода совсем остановилась, вдруг выяснилось, что, помимо внутрицеховых изменений, в мире за последние десять лет сменилась ещё и прокатная парадигма.
Зарубежный прокат — штука, о которой студии-мейджоры были приучены вспоминать в последнюю очередь. Ситуация начала серьёзно меняться лет пять-семь назад, когда рынок DVD и VHS внезапно обрушился, и Голливуд оказался в новом дивном мире, где волшебная формула «есть шанс, что посмотрят потом» оказалась под вопросом. «Посмотрят потом» предполагала, что через месяц-другой после церемонии все победители выйдут на носителях с победными золотыми блямбами на коробочке. Зачем включать Португалию или Бахрейн в расписание «оскаровской гонки», если можно ограничиться неспешным релизом на DVD. Но DVD как формат умер.
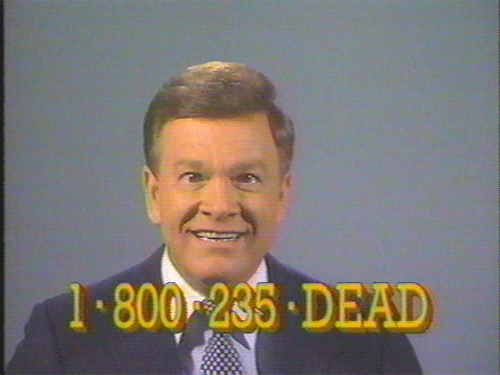
Попытка вести торг с цифровыми дистрибьютерами — локальными телеканалами или интернет-платформами — открыла еще одну проблему новой реальности. Платформы и телеканалы стали укрупняться. Если ты уже продал свой фильм Netflix, то есть шанс, что его больше никто не купит. А если никто не купит, то надо пытаться его продать, пока железо ещё горячо. Надо активнее работать с национальными прокатчиками. Здесь возникает следующая проблема: как повлиять на национального прокатчика? Убедить его выпустить твой фильм в самый hot season — те самые несколько недель между объявлением номинаций и оглашением победителей. И самый главный вопрос (почти экзистенциальный): сможет ли премьера в тесный hot season принести картине реальные дивиденды? Призёрские дивиденды.
Посмотрим на выпуклом примере Китая. В Поднебесной все ещё любят премию «Оскар» и предшествующий церемонии марафон. Местный прокат открылся Западу совсем недавно, массовый зритель этой церемонией еще не пресытился (прямо как российский на рубеже веков), поэтому относится к каждому фильму со всей искренней симпатией. Но в чём проблема. Далеко не все фильмы из оскаровского шортлиста попадают в китайский прокат. Картины на скользкие темы (например, «Лунный свет») цензура гасит, привычно ссылаясь на национальные квоты.

Приведу в качестве иллюстрации совсем немного статистики за последние пару лет. Сколько тот или иной оскаровский номинант заработал в Китае, когда заработал и какая оценка у этого фильма в китайской социальной сети Douban. Последний фактор крайне необходим, чтобы убедиться в том, что отсутствие национального проката для отдельно взятого фильма, а также великий китайский файервол, не мешают китайским зрителям смотреть те или иные фильмы.
2017
- «По соображениям совести»: 62 млн долларов. Выход — до номинаций. Оценка Douban — 8,7
- «Прибытие»: 16 млн долларов. Выход — до номинаций. Оценка Douban — 7,7
- «Ла-Ла Лэнд»: 36 млн долларов. Выход — перед победой. Оценка Douban — 8,3
- «Лев»: 2,5 млн долларов. Выход — гораздо позднее победы. Оценка Douban — 7,4
2018
- «Дюнкерк»: 50 млн долларов. Выход — до номинаций. Оценка Douban — 8,4
- «Темные времена»: 5,8 млн долларов. Выход — до номинаций. Оценка Douban — 8,5
- «Бегущий по лезвию 2049»: 11,2 млн долларов. Выход — до номинаций. Оценка Douban — 8,3
- «Форма воды»: 16,6 млн долларов. Выход — после победы. Оценка Douban — 7,2
- «Три билборда»: 10,2 млн долларов. Выход — после победы. Оценка Douban — 8,7
«Лунный свет» (Douban — 7,3), «Призрачная нить» (Douban — 7,5), «Назови меня своим именем» (Douban — 8,7), «Леди Бёрд» (Douban — 7,9), «Тоня против всех” (Douban — 8) — в китайском прокате представлены не были.
Можно в сотый раз пошутить про фобии китайских цензоров и про партийные нравы, а можно принять позицию, что китайская прокатная машина — это хорошая лакмусовая бумага, на примере которой прекрасно видно, что не так с Оскаром-2019. «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Рома», «Звезда родилась», «Власть», «Чёрный клановец» — прокатываться в Китае не будут. Прокатывалась «Чёрная Пантера», в марте выйдет «Зелёная книга» (китайцы всё же были инвесторами) — и больше ничего. Почему? Потому что неинтересно.
«Оскар» всегда был праздником, во время которого кинозрители со всего мира ощущали себя сопричастными к чему-то большому, важному и всех объединяющему. В эту ночь и ещё несколько дней спустя миллионы людей за пределами Штатов чувствовали себя… немножечко американцами. «Оскар-2019» года еще не случился, но уже вызывает ассоциации в коллективном бессознательном с неловким свадебным банкетом из дурных фильмов про дисфунциональные семьи. Будем надеяться, что в ночь с воскресенья на понедельник этот фантом развеется, и над Театром Долби снова взойдет солнце. (В этом месте автор тяжело вздыхает) Солнце Альфонсо Куарона.